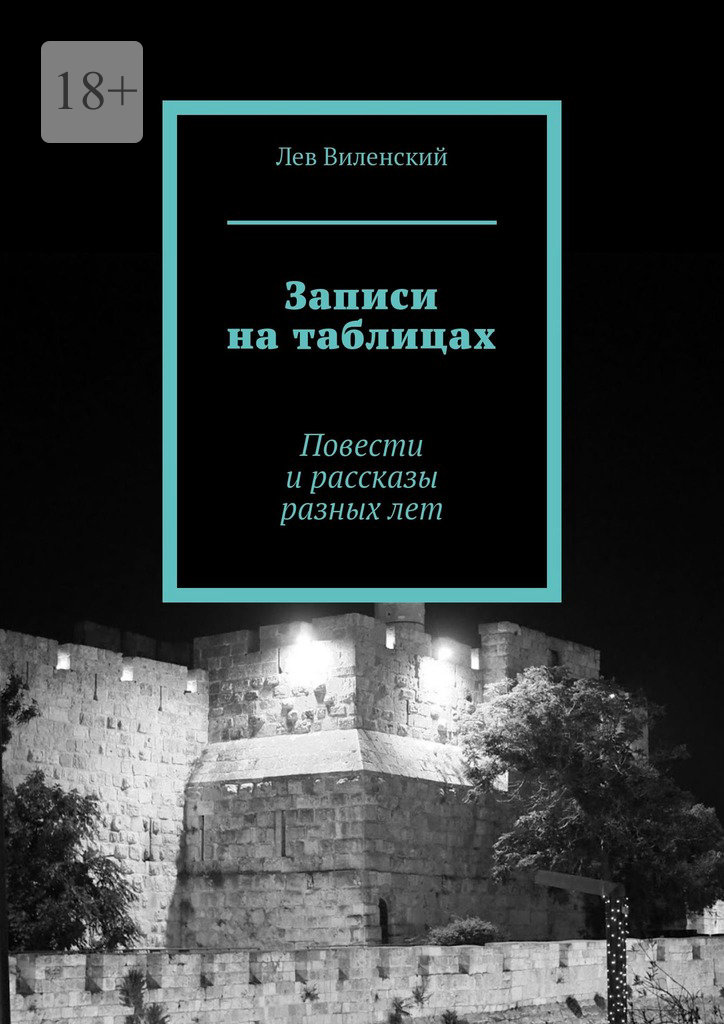солнце вновь встало над пыльными крышами Царефата, Элиягу отправился на берег. Вокруг не было ни души, лишь огненный диск лениво всплывал с востока, поднимаясь над вершиной Хермона, да кричали в небе вездесущие чайки в поисках добычи. Почти неслышно накатывались волны на желтый мелкий песок, отступали, и снова накатывались, оставляя за собой клочки белой пены, водоросли, мелкие ракушки. Пророк обратился лицом на юг, где за невидимыми горами, поросшими лесом, чьи спины изгибались над зелеными долинами, лежал на вытянутом холме любимый Иерушалаим, где золотая крыша с остриями, принадлежавшая Храму, светилась в лучах рассвета, где крик водоносов уже нарушал безмолвие, и гулко шлепали ведра, падая в источник Гихонский, и скрипели блоки, поднимавшие их наполненными самой вкусной водой, которую когда-либо пробовал Элиягу. Слеза, маленькая и дробная, скатилась по щеке пророка, и он говорил с Богом, лишь губы его шевелились, но слов не было слышно:
— Господи, Боже Исраэля, Господь Великий, могучий, страшный в ярости и безгранично добрый к любящим тебя! Ничего не прошу у Тебя, Бог мой и Бог воинств Исраэля, только прими от меня, человека простого, который нагим рождается и нагим в землю уходит любовь мою и благодарность. Когда я был слаб, когда преследовали меня враги мои, чтобы убить меня, Ты поднял меня, Господи, Ты вывел меня из беды и спас меня от ненавидящих меня! Слава Твоя Велика и будет жить она вовеки!
Тут молитву Элиягу прервал неожиданный крик, неистовый, режущий уши, казалось, что море отступило в страхе и изогнулся небесный свод от этой невыносимой боли, которая звучала в женском крике. Батбаал бежала к Элиягу, ее ноги увязали в песке, она спотыкалась, падала, вставала и бежала к нему, не переставая истошно кричать, а на руках ее, беспомощно свесив головку назад, лежал маленький Эламан, и его тонкие ручки болтались безжизненно в такт материнскому бегу.
— Человек Божий! — кричала обезумевшая вдова, ее лицо было покрыто коркой из песка и слез, она беспомощно опустилась на землю, все еще продолжая сжимать тело мальчика, — зачем ты пришел? О грехе моем напомнить мне? За что сын мой, кровиночка моя, солнышко мое, за что он умер?! Где ж твой бог, пришелец?! Где бог!!! Отвечай мне!!! Еще вчера сыночек жив был… а утром гляжу, лежит, не дышит… Где бог твой?! Зачем ты пришел ко мне! Верни мне Эламана, верни…
Она аккуратно положила легонькое тельце мальчика на песок. Эламан лежал тихий, кроткий, словно бы спал, но личико его вытянулось, и рот приоткрылся, и не поднималась худенькая грудка от ровного дыхания. Душа вылетела из тела и ушла к Богу, давшему ее, а телу было суждено обратиться во прах. Элиягу смотрел на ребенка, на его торчащие ребра, на смуглое от загара тельце, на жалкую набедренную повязочку и тонкую красную веревочку-талисман на шее, на песчинки в волосах и на добрые ручки, разбросавшиеся на песке, неподвижные. Мир исчез для пророка, вокруг стало тихо-тихо, все пропало вокруг. Замолчало море, чайки куда-то исчезли, померкло солнце, все пространство сжалось до размеров тела мертвого мальчика, окутало Элиягу коконом, в ушах послышался заунывный свист, и тонкой невыносимой болью пронзило голову от затылка и до лба. Пророк пал на колени и накрыл собой наискосок маленькое тельце, он чувствовал, что мальчик уже холодеет и вот-вот окоченеет, и захотелось ему рыдать, как вдове Батбаал, но что-то внутри словно поднялось и сделало его сильным, и вскричал Элиягу голосом, от которого задрожал, казалось, низкий берег:
— Господи, Боже мой, царь Вселенной! Неужели и вдове, у которой я живу, причинишь Ты зло!? Об одном прошу Тебя я, пусть возвратится душа мальчика этого в него! Пусть возвратится, прошу Тебя! Прошу Тебя, Прошу Тебя!
Трижды воскликнул Элиягу, и трижды простирался над маленьким телом, и весь мир вокруг, замкнутый вокруг детского тельца, простирался вместе с пророком, и когда воззвал он третий раз к Богу, мальчик вдруг дернулся, чихнул от попавшего в нос песка, судорожно привстал и заплакал, испуганный, ища глазами мать и не понимая, отчего вчерашний гость сидит рядом с ним. И мать, рыдая, обняла сына, а потом простерла к Элиягу натруженные жилистые руки свои, не в силах сказать ничего. Пришлец, со лба которого катились крупные градины пота, встал, пошатываясь, его колени дрожали, но губы улыбались, и он тихо промолвил, засмеявшись,
— Смотри, жив сын твой!
Вдова неожиданно бросилась целовать Элиягу ноги, но тот поднял ее с земли. Батбаал, все еще рыдая, запричитала,
— Вижу я, вижу, что ты — Человек Божий, и слово Господне в устах твоих — истина! Твой Бог — бог сильный и страшный, и ты именем его можешь оживить мертвого, ты вернул мне сына моего, моего маленького Эламана! Чем я могу отблагодарить тебя?
— Половиной лепешки да плошкой воды, — ответил Элиягу, — ибо я человек простой, и не ведун, и не волшебник, а вот благодари Господа Единого, Господа Исраэля — ибо Он, Сущий, вернул тебе мальчика, ибо Он, Единый, может все и делает все мудро и справедливо, и славится вся Земля Поднебесная славой Его.
***
Шевна почесал коротко остриженную голову, завил привычным движением клок седых волос за ухом. Поправил шапочку и присел на табурет. Ветер продолжал завывать за ставнями дома, неслышно ступая мягкими толстенькими ножками, вошла внучка писца, серьезная не по годам пятилетняя девочка, поцеловала деду руку и протянула ему несколько вяленых абрикосов да персиков. Шевна погладил внучку по вьющимся волосам, поцеловал крутой задумчивый лобик, и та, засмеявшись вкусным переливчатым смехом, убежала вниз по лестнице, топоча, довольная и спокойная за дедушку.
«Лет моих уже шестьдесят девять, и при крепости я проживу до восьмидесяти, а вот царь Давид, память его благословенна, не прожил до восьмидесяти, уж больно жизнь у него была наполнена событиями, да великими горестями… Авшалома похоронил, сына маленького первенца от Батшевы 17 — похоронил, словно бы первенцами заложил основы Храма, который отстроил сын его, Шеломо. Хотя у нас так не принято, слава Создателю, это только у диких ханаанеев, да перизеев, да йевусеев 18 так, да сколько их осталось под Иерушалаимом? Едва две деревни на запад, куда уходит вечером солнце…». Мысли старика бежали тихим потоком, словно маленький журчащий ручеек, и буря совсем не мешала ему думать.
«А сколько прожил-то Ахав, царь нечестивый и несчастный?», — подумалось старику, — «молодым ушел… эх!». И он положил на специальный низенький столик из оливкового дерева новый лист кожи, и вновь послышалось настойчивое поскрипывание тростникового пера:
«Засуха в Исраэле приняла воистину страшный облик. Ежедневно в столице умирали более десятка людей. Но если поставку питьевой воды удалось